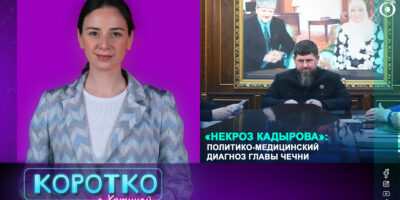![]()
— Были моменты, когда вы все-таки задумывались о том, чтобы покинуть Россию?
— Каждый день. Каждый день я рассматриваю вариант покинуть Россию, потому что в пошлом значении слова «патриот» я совсем им не являюсь. Я очень критически отношусь к своей стране и к государству в целом. То есть, куда бы вы меня ни ткнули, я везде в любом государстве найду какие-то минусы: как в историческом развитии, так и в современной системе. В России это максимально извращено.
Дело в другом: тут мне все родное. Тут погибло очень много моих коллег, друзей. Они или были убиты, или преследуются этим политическим режимом. Поэтому у меня остается долг, мой внутренний долг перед этими людьми.
Во-вторых, я не хочу показывать, что я боюсь. Для меня это очень важно. Не потому что я на самом деле боюсь и не хочу показывать свой страх, а потому что я правда его не испытываю. Понятное дело, что я волнуюсь: мне не хочется садиться в тюрьму и становиться иностранным агентом – мне всего этого не хочется, как и любому другому нормальному человеку. И каждый день, каждый раз, когда я куда-то уезжаю, я задумываюсь: а может и не надо возвращаться. И каждый раз понимаю, что нет, надо возвращаться, надо работать, пока есть возможность.
— Какова цена выживания той самой российской оппозиционной журналистики, которую вы представляете?
— Что предполагает работа? Работа предполагает нормальные условия труда. Их тут не существует для независимых журналистов.
Условия выживания – это, конечно же, цензура. Я бы не сказал, что очень удачен в ней, потому что мне не страшно говорить слово «война». Я задумываюсь об этом каждый раз, когда произношу это слово, ведь это означает, что человек, который меня смотрит или читает, может написать на меня заяву, и я думаю, что эти заявы уже были.
Понятное дело, что мы не можем обсудить Бучу, Ирпень, одесские обстрелы. Да, на свой страх и риск мы постим это в своих соцсетях. Но когда людей в России критикуют за то, что они не постят, это просто нужно понять эмоционально. Это не всегда происходит из-за цензуры. Когда были последние удары по Одессе, я ничего не запостил в соцсетях. Через какое-то время выпустил материал или историю коллег запостил, ну потому что я просто сидел в шоке. Я сейчас культурно говорю.
Питер Померанцев: россияне хотят втянуть всех в свой грубый эмоциональный ад
— Под «ценой выживания» мы имели в виду риск, на который вы каждый день идете. Что для вас сейчас дамоклов меч?
Тюрьма. Это давит. Ну а как по-другому? Я вот сейчас уеду, у меня отпустит плечо – оно болит просто от нервов и постоянного напряжения.
Есть иноагентство – это очень неприятно. В какой-то момент я даже себе сказал, что, если я стану иноагентом, то уеду. Но сейчас я уже не уверен в этом. Потому что, ну что-нибудь придумаем. Статус-то офигенный.
У нас с Тихоном Дзядко (главный редактор телеканала «Дождь») всегда был спор: он считает, что это не элитный статус, а я думаю, если меня сделают иноагентом, я целый мерч выпущу «Вася – иноагент!».
Другая история, которая меня не отпускает ни на минутку, – российские спецслужбы. Я же понимаю, как все устроено и как все работает. Понимаю, что при своей работе под прицелом нахожусь не только я, но и вся моя семья. И переживания за других людей у меня намного больше.
— Почему для вас важно продолжать работать именно в России?
— Это весомее для тех людей, которые остались здесь вместе со мной. Для них, конечно, то, что я вижу своими глазами здесь, – ценнее. Вообще мой подход к журналистике такой: то, что вижу, то и пою. Не хочу придумывать, домысливать что-то. Для этого мне хватает моей “кухни”, разговоров с друзьями на ней, моего личного политического формирования и критического мышления.
Но как журналист я обязан просто рассказывать то, что я вижу, и стараться собирать мнения и одной, и другой стороны. Мы находимся в ситуации, когда с другой стороной невозможно общаться. Невозможно общаться с человеком, который только что при тебе зарубил людей топором, и ты его спрашиваешь, как бы с улыбкой: «А почему вы это сделали? Извините, я просто журналист, хотел уточнить, а как вы это делали? Прям топором или вот этим ножом?».
Вообще, в определенный момент жизни, когда мне было 20 с чем-то лет, как любой молодой человек, я не мог определиться со смыслами.
Для меня же смысл превыше всего. Я так воспитан. Моя семья была всегда построена на определенных целях и смыслах, и они не были связаны с чем-то материальным, возможно, с духовным (я верующий человек), но они должны были тебя двигать. Ты как тележка, а смыслы – руки, которые тебя толкают.
И этим смыслом для меня стала журналистика. Это очень простая история: я разделяю человеческую боль всегда. Мне всегда хотелось защищать слабого. И журналистика мне просто дала такой шанс. Если я уеду, я откажусь от этой профессии.
И это второй такой смысл, почему то, что я делаю здесь, – важно.
А третий – здесь я сижу в первом ряду, я сижу один в этом кинотеатре, у меня большое такое ведро с попкорном – там и сладкий, и соленый, большой стакан колы, и мне не нужно ничего щелкать, мне не нужен пульт, этот экран сам мне все показывает. Я нахожусь тут.
Эти три смысла – самое главное, почему я тут остаюсь.
Есть еще одна история, которую я не называю основной, но она, конечно же, главная – это моя семья. У меня тут бабушки, дедушки, которым уже под 90 лет, у меня тут племянники, сестра, мама. Друзья тоже остаются, но их крайне мало.
В определенный момент я не очень понимал, кого мне звать на день рождения. Люди, с которыми я общался последние 7-8 лет ежедневно, они все уехали. Почти все.
Конечно, тут остались люди. Но они живут своей жизнью – жизнью русского обывателя. То, что меня очень сильно раздражает. Поэтому встреча с ними и любой разговор в определенный момент начинает выводить меня из себя. Это другая сторона, которая, наоборот, подталкивает уехать. Потому что это невозможно! Ребят, вы не просто в каком-то пузыре, вы в вакууме, который невозможно пробить. Политика пришла в каждый дом, все заполонила, каждый элемент, куда ни глянь. А ты смотришь на людей и не понимаешь: «А вы как остались обывателями-то в этой реальности?».
— Вы снимаете контент для «Живого гвоздя», «Новой газеты», «ОВД-инфо», своих каналов – это очень много работы. Что для вас главная мотивация продолжать?
— Мне хочется сохранить профессию. Это громко, пафосно звучит, но мне хочется, если думать о том, что мои действия могут сохранить профессию вот такой, какой мы ее знали.
Два года назад я бы сам себя высмеял за такие слова: «Кому ты там что передать хочешь?». А в нынешней реальности – это абсолютный факт. Ты должен воспитать людей, которые будут понимать, что такое журналистика и как к этой профессии нужно подходить. И заново нужно будет объяснять, что журфак – это не журналистика, и надо идти учиться на другие факультеты или потом доучиваться. Но эта пафосная мысль все равно, в том числе, стимулирует меня работать.
Я работаю не для себя. Конечно, я получаю за это деньги, но делаю все, чтобы мои коллеги за рубежом, за границей, могли взять мои фото, мою информацию. Пытаюсь писать максимально сухо. И это одно из маленьких колесиков, которое продолжает двигать машину журналистики. И Венедиктов такой же, и Муратов, и Милашина. И мы должны ее двигать, двигать, двигать, и быть большой телегой с информацией, откуда все могут похватать, и не нужно ни за что платить, никакие авторские права – ничего.
— Изменилось ли ваше отношение к коллегам, которые остались в России, и к тем, кто уехал?
— Я вообще командный игрок. Не любил никогда формулировку «У нас в редакции здоровая конкуренция». Нет, нет никакой здоровой конкуренции. Есть люди, которые подходят для определенной работы, есть те, кто не подходит. Мы должны быть честными. И мне казалось, команда способна на большее, если все честны друг с другом.
Мое отношение ни к кому не изменилось, есть претензии. Как я говорил: 2023 год – год без лицемерия. Но единого кулака журналистики сейчас нет.
Может все и готовы друг другу помогать, но это не проговорено. Из-за нежелательности большого количества медиа, из-за того, что тут люди рискуют, имея с ними какие-то отношения: финансовые или договорные, я думаю, что государство в этом смысле добилось раскола журналистики на два лагеря: те, кто тут, и те, кто там.
Софья Демина, Муна Батчаева
Фото Александры Астаховой